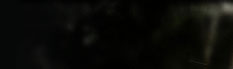Мое детство и Ленинград
Родился я в Марте 1953-го – через три недели после смерти Й.В. Сталина…
Прожил я в Ленинграде только первые 3 года, т.к. после окончания Консерватории моего отца отправили по распределению на работу в г. Челябинск (в музыкальное училище).
Но каждый год, без исключения, на отцовские (затем, и мои) зимние каникулы – мы неизменно приезжали именно в Ленинград. И всегда жили в той же квартире.
Мама моя – в свое время закончила фортепианное отделение музыкального училища и филологический факультет Педагогического института. Где и как она познакомилась с моим отцом – я не знал никогда.
Смутно помню бабушку по материнской линии – бабушку Варю. Жила она в подмосковной деревне – обычный деревенский деревянный дом с сильно потемневшим крыльцом. Деда – не помню совсем. Зато почему-то помню… их козу.
Бабушка Варя меня же и крестила (уже в Ленинграде).
Все детство после рождения – жили мы на ул. Пушкинской, что рядом с Московским вокзалом и Невским проспектом, на 5-м этаже «стандартного» питерского дома. В нем – высота потолков была под 4 метра. Запомнился длиннющий коридор бывшего «доходного дома», уже в советское время поделенного на коммунальные квартиры.
Тогда в квартире жили одновременно две семьи: наша – 7 человек, и соседи – двое. Пенсионерка, любительница играть на гитаре и петь старые романсы и ее дочь, тётя Света. Она меня тоже воспитывала.
Занимали мы две комнаты из общих 3-х. Кухня – поделена на две семьи. Две плиты, три стола… Длинная и тонкая «кишка», а не кухня, но… - это тоже часть моей Родины.
В квартире всегда жил … кот. Марсик.
Умирал один Марсик – на его месте немедленно появлялся другой. Точно такой же: серый, сибирский. Естественно, кошачий запах, который стоял системно и пропитал все стены. Никакие ремонты, покраски никогда не спасали от неистребимого кошачьего запаха. В Питере – чрезвычайно много «кошатников», это – как «визитная карточка» и города и настоящих коренных горожан.
Фактически, квартира на Пушкинской - квартира семьи сестры моей матери – Нины Васильевны Протопоповой. Именно ее семья, ее дети – Вовка и Аня – и были моими первыми воспитателями, (помимо отца, разумеется). Уже гораздо позже выяснилось, что мама моя к воспитанию и элементарному уходу за мной - ребенком была… мягко говоря предельно невнимательной и необязательной. Почему так – я не знаю до сих пор…
В конце концов – у отца с моей мамой все дело дошло до скандалов и развода. Я об этом выше уже писал. Но это было уже позже, когда мне было 7 лет.
Обязательно должен я упомянуть и о том, что семья, в которой я рос – обычная (по советским меркам) питерская семья – это семья инженеров-железнодорожников. Это – ЛЕНИНГРАД. Со всеми «вытекающими».
Тетка (Нина Васильевна) – инженер-капитан. (Помню, с каким трепетом и мальчишеским восторгом я разглядывал ее настоящие (!) военные погоны!..). Дядька – Александр Александрович Маркин – также инженер-железнодорожник. Он руководил кафедрой и преподавал в ЛИИЖТе. (ЛИИЖТ - Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта). Их дочь Анна (моя двоюродная сестра, старше меня лет на 7) – также инженер в области водоснабжения. Только вот их сын, Вовка (старше меня на 10 лет) – сразу стал музыкантом. Он – дирижер-симфонист. Анна же, работая высококлассным инженером на заводе «Электросила», все свободное время посвящала... профессиональному собаководству и … игре на гуслях в оркестре народных инструментов ЛИИЖТа у своего отца.
Вероятно, сказалось то, что, несмотря на сугубо «технарский» профиль сего семейства, все они и каждый в отдельности были предельно высококультурными во всех смыслах людьми: в области музыки, литературы и живописи.
Оказывается, дядя мой, Александр Александрович, помимо своей «инженерии» - более 30 лет руководил в том ЛИИЖТе – местным любительским оркестром народных инструментов. Помню два их концерта уже для «широкой» публики на профессиональной сцене. Бегал, когда стал постарше, к ним и на репетиции по вечерам.
Дома, (особенно по каким-то праздникам, застольям) – дядя что-то лихо играл (вроде – на домре, немного – на фортепиано), пел романсы, арии и оперные ансамбли с теткой моей, Ниной Васильевной. Та – «заседала» за пианино, аккомпанируя и себе и всем. Голос у тетки был – прямо, «труба Иерихонская»…
Помню – пелось что-то из русских опер, типа «Князь Игорь» Бородина, был в их домашних музицированиях и Мусоргский, и Римский-Корсаков с Чайковским…
Оказывается, каждый из этих инженеров имел минимум один – два абонемента в Ленинградскую Филармонию, и они систематически ходили на концерты симфонической музыки…
Оказывается, и МНОГИЕ «питерцы», независимо от их основной профессии, вели себя аналогично: культура – это неотъемлемая часть их быта. ИХ воздуха. ИХ жизни…
Что уж сравнивать с нынешними временами массового культурного … вырождения…
Но оказалось, моим «нянькой» даже в то время фактически был отец. А не мама. Так уж вышло… Как только закончился период грудного кормления – всю заботу по кормлению, пеленанию и проч. взял на себя … отец.
Потом мне уже рассказывала и тетка, и сам отец, что коробка из под сливочного масла – заменила мне коляску. Колыбель – заменял большой коричневый чемодан без ручки.
Чемодан этот до сих пор стоит в «стопке» чемоданов» в этой огромной, длинной прихожей-коридоре…
В оной же коробке из-под масла отец (студент 4-5 курсов Консерватории) таскал меня с собою повсюду, включая и саму Консерваторию. Практически каждый вечер он ездил туда заниматься и в этой коробке тащил меня с собой.
Смешно, но я действительно лежал в своей коробке на подоконнике в Оперной студии, пока отец – сидел рядом, читал.
Сидел в той же коробке на рояле, когда отцу удавалось «раздобыть» класс с инструментом и «потарабанить» на фортепиано.
Может, забавно и то, что когда отец занимался на органе в Большом зале Консерватории – то часто он меня в этой коробке клал на маленький столик, стоящий внутри органа…
Как я не оглох тогда,… трудно сказать. Зато – это мои первые НАСТОЯЩИЕ музыкальные впечатления. Пусть я тогда еще и не говорил, а только … «гу-гу»-кал…
Сколько я затем органов не слышал, но орган Ленинградской Консерватории для меня
всегда останется ЛУЧШИМ. Как на нем мой отец вдруг сыграл … Гимн Советского Союза (в Ми-бемоль мажоре) – помню ДО СИХ ПОР… (Правда – я тогда был уже постарше, раз запомнил и игру, и тональность).
Ведь отец умудрялся заниматься и как теоретик, и как композитор (факультатив), также, факультативом – ходил заниматься к Исайе Александровичу Браудо (класс органа).
Рассказывал отец, что Браудо был просто беспощадным педагогом и «гонял» своих студентов всячески, включая … буквально палкой: длинная двухметровая жердь, которой Браудо мог «опоясать» или лупануть прямо по рукам… Длинная – потому что у органа – длиннющая скамейка, по которой надо все время … ёрзать одним местом, сидя на специальной скользкой тряпочке…
Часто Брауда кричал, топал ногами и отсылал студентов заниматься на фортепиано: рядом с органным залом – много «конурок» с пианино внутри. Особенно тщательно И. А. «выколачивал» из учеников штрих legato на органе…
Помню, что отец частенько «штудировал» книгу Браудо «Артикуляция. О произношении мелодии».
Уже потом в меня папа сие legato «вколачивал», как мог…
Мое детство и Челябинске
Как известно, ребенка воспитывают: родители и «среда обитания».
Мне, ставшему впоследствии профессиональным музыкантом – «повезло» со средой обитания. Хотя, для взрослых – жить в классе, в подвальном помещении самого здания музыкального училища города Челябинск – было весьма затруднительно: только один вопрос местонахождения …. туалета (во дворе), умывальника (отсутствовал вовсе) – чего-то да стоит. Но мне, ребенку, все это было «по боку»…
По распределению после Консерватории – отца направили работать в Челябинское музыкальное училище. Квартиру сразу не дали – она, квартира, появилась через пару лет.
А пока – нечто вроде большого класса в подвальном «этаже». Среди аналогичных классов, в которых, по традиции музыкальных училищ, занимаются духовики.
Потому первым моим окружением в плане звука – были именно … духовики-студенты. «Дядька фагой» - это … фаготист. Студент, видя пацана, сознательно «пугал» малыша какими-то низкими звуками и «рычанием» фагота… Я – бежал через весь длиннющий коридор, вцеплялся в папины брюки со страха. Да еще – лампочка в коридоре мерцала так зловеще…
Естественно, вместо детского сада – я круглыми сутками «толкался» по этажам и классам музыкального училища. Лазил – везде. Возможно потому стандартный курс музыкальной литературы в объеме муз. училища мной «на слух» был освоен еще в совсем раннем детстве.
Ребенку ведь все равно что запоминать. Т.е., фактически уже тогда, помимо собственного «мозгового усилия», я запоминал и запомнил множество всевозможной музыки. В дальнейшем – просто надо было «прицепить» к уже знакомому «названия»: Шуберт Симфония. Главная партия, или Шостакович, то-то и то-то… Вероятно, этим тоже занимался мой отец: т.е. «давал названия» уже имеющимся у меня в голове музыкальным «понятиям».
Смешно, но это факт: я умудрялся … подсказывать студентам на их зачетах и экзаменах по музыкальной литературе… Прошу меня правильно понять: я НЕ хвастаюсь. Для ребенка – это было в порядке вещей. Благодарные студенты – бесконечно дарили мне … значки: я помню свой маленький свитер, весь, полностью утыканный … значками. Даже – на рукавах и на спине. Куда делся тот свитерок?...
Как была устроена наша «бытовая» часть, что и как мы ели, на чем готовили – я совсем не помню. Вроде – мама что-то пыталась «изобразить» на электроплитке или керогазе. Примусов отчего-то отец не любил…
Но точно знаю: фактически с детства мои (и отца) местом питания – были различные «столовки» (как называли тогда столовые) общепита. Многие годы подряд.
Как потом стало ясно – отец никогда не обращал даже малейшего внимания на то, что называется бытовые удобства.
Он чуть ли не «пожизненно» ходил в одном и том же костюме и брюках, где периодически приходилось подшивать облезшие в рукавах нитки. Был категорически нетребователен и к еде, и к ее качеству, разнообразию. Те же «навыки» были со временем привиты и мне: абсолютное равнодушие именно ко всему бытовому. Возможно, это и плохо сказывается (особенно, на семейной жизни…), но это есть факт: с такими привычками уже просто так не расстанешься.
Возвращаясь назад (по времени), уже из рассказов - воспоминаний отца о его детстве, быте в концлагере, в армии, в годы его учебы – видно, что таким нетребовательным именно в бытовых вопросах отец был сам воспитан с его уже детства.
Зато – целый день, каждый день я вращался среди музыки и музыкантов. Понятное дело: меня, как «сына самого (!) педагога» студенты баловали и … любили. Времена были ДРУГИЕ: люди были во всех своих чувствах искренние. Добрые. Натерпевшиеся послевоенной разрухи. Но люди были … СВЕТЛЫЕ!
Жаль, что я не помню ни их имен, ни их фамилий. В памяти обо всех «челябинских» студентах – остался один только «дядя Еня» (Женя) - Евгений Гудков – любимейший студент отца.
Вроде – он «народник», но – композитор. Настоящий. Пишущий. Сейчас – он совсем уже старенький, а возможно – и нет его уже…
Последний раз – практически случайно я переписывался с ним лет с 15 тому назад.
Отец, фактически живя внутри училища – и жил им. Т.е. ему прийти домой – только спуститься вниз, в подвал. Все остальное время – он где-то в классах, аудиториях, среди студентов и педагогов.
Тогда, в Челябинске, началось увлечение папы «капустниками» - юморными театрализованными представлениями на Новый год силами студентов. Он сам писал «сценарии», тексты, режиссировал сам «репетиционный процесс». Бывал приятно удивлен и обрадован, когда студенты, тайком, уже по ходу, вставляли сценки, где в юморном виде разыгрывали и его самого.
Помню, что именно в Челябинске отец стал приобщаться к … джазу. Писал какие-то аранжировки для вокального ансамбля и эстрадного оркестрика студентов и педагогов, когда праздновался Новый год.
Как то так вышло, что вот спустя полвека – в памяти моей от тех детских «челябинских» лет сохранилось то, что ВО ВСЕХ случаях, и бытовых, и музыкальных – на первом месте всегда был мой отец…
Я не могу абсолютно ничего вспомнить особенно яркого, запоминающегося, связанного с моей мамой… Ну, разве что, помню, как глухой ночью, уже под утро, в полной темноте вдруг резко закричала мать: прорвало батарею отопления и ее, с тогда совсем крохотным моим братом (Андрей, род. в 1958 уже в Челябинске) стало заливать кипятком…
Вероятно, вызвано это все тем, что впоследствии и привело к разрыву моих родителей: мать была абсолютно равнодушна к нам, детям. Понимаю: звучит это как-то дико, но факт – остается фактом. Разве вспоминается еще подаренный мне моей мамой … игрушечный плюшевый мягкий кот (Батя), привезенный ею из Москвы. Он честно «спал» рядом со мной на подушке до моих 17 лет, уже до полного истлевания всех его тряпочек и высыпания соломы, которой он был набит…
Еще вспоминается товарищ моего отца – преподаватель фортепиано – Кира Федоровна. У которой дома жило одновременно примерно около 30 котов и кошек и которых она периодически умудрялась еще и … купать в ванной. Перед глазами стоит залитая водой ее одна комната, когда те коты наконец-то повылазили из ванны на свободу…
Вероятно, отец уже тогда, примерно с моих 4-х лет, стал относительно систематически заниматься со мною музыкой. Как проходили эти занятия – я, конечно, уже и не помню. Мы постоянно слушали музыку в звукозаписях. Был у нас тогда проигрыватель для грампластинок, из толстой коричневой пластмассы, который подключали к радиоприемнику. Еще и специальные корундовые иголки приходилось доставать…
Помню – слушание «Золотого петушка» Римского-Корсакова. Помню, как почему-то я плакал, когда слушали «Вальс-фантазию» М.И. Глинки… Что мне говорил тогда отец – конечно, уже забыто…
Но вот сольфеджио – действительно, началось уже тогда, с Челябинска. Отец всю жизнь хранил листок с моим «ритмическим диктантом». Песенка – «Петушок, петушок». Мной, 4-х летним, верно был записан (точнее – нарисован) ритм: восьмые ноты и четверти. Дата. Подпись – отца, как он расписывался в студенческих зачетках, журналах… «Всё по-настоящему», чем я страшенно гордился!.
|