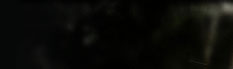Наш быт
В быту отец всегда довольствовался самым малым. Своеобразное «спартанство», принципиальная, даже подчеркнутая нетребовательность – стиль его жизни. Вероятно, воспитанию сего качества способствовало крайне суровые детские его годы в плане «излишеств» и бытовых условий, а затем – специфика предельной ограниченности во всем, что касается быта уже в концентрационном лагере, армии и во все послевоенные годы учебы.
Любое, даже часто нормальное стремление людей улучшать свои бытовые условия папа неизменно называл «мещанством», «обывательством». Многократно издевался над тем, что называется «мещанский мирок» и «мещанский уют».
Такими же нетребовательными, выносливо-стойкими к любым бытовым неурядицам воспитывали и нас, детей. Со временем, когда я сам стал гораздо старше, казалось, что отец даже в чем-то «перебарщивает» и как-то даже чуть ли не кичится своей «спартанскостью».
Конечно, я не помню, что по поводу «улучшения бытовых условий семьи, приобретения новой одежды и прочей утвари» говорила отцу его первая жена, моя мать, но «диспуты» с его второй женой – Юлией Осецкой, бывали порой весьма «острыми». И это еще мягко сказано… Порой, дело доходило просто до скандала, когда кто-то ему долго и аргументировано, внушал мысль, что-де, необходимо купить какую-то новую тряпку, рубашку, костюм…
Наш одёжный минимум вполне умещался и на вешалке в прихожей и под раскладушками в нескольких картонных коробках. Правда, у бабушки была пара личных картонных коробок под ее кроватью, где она держала весь свой «скарб». В квартире кругом были только книги, еще раз книги, ноты, пластинки, еще раз пластинки. Во всю стену была приклеена огромная карта мира. На противоположную стену приклеена огромная карта Советского Союза. Я страшно любил по ним «путешествовать», знал практически все «закоулки» и географию Земли и государств еще до поступления в школу.
В одежде – отец был, мягко говоря, старомоден и консервативен. Можно даже сказать, что внешний вид его абсолютно не заботил. Он годами (без преувеличения!) ходил «в одном и том же». Неизменный пиджак (серый), в котором он сам срезал ножницами выступающие от «обтёрханности» (его слово) нитки и долгое время носил неизменный значок с профилем Ленина на левом лацкане. Рубашки – всегда только с короткими рукавами. Даже зимой.
Годами, в любую погоду, носил неизменный плащ из материала типа «болонья», Многим студентам, из разных городов и училищ, почему-то вспоминается именно его этот синий плащ…
К галстукам, как атрибуту одежды, отец имел … просто стойкое отвращение. Галстуки он называл не иначе, как «ошейник». Категорически не надевал галстуки никогда. Даже на «официальных» фотографиях, включая паспорт – ворот рубашки всегда расстегнут, всегда – поверх пиджака. Правда – один-единственный галстук все же имелся. Или в самом деле этот «ошейник» напоминал ему об концлагерных «удавках» - галстуках офицеров СС, не знаю… Но факт остаётся фактом: заставить отца надеть к костюму галстук не удавалось практически никому и никогда.
Не видел, чтобы отец хоть раз надел свитер (их у него и не было вовсе), какой-то жакет, жилет, куртку. Да ничего этого и не покупалось: шкаф для одежды … отсутствовал по-определению. До появления Юли (второй жены отца) в нашей семье он попросту отсутствовал за ненадобностью …
В его «гардеробе» годами, десятилетиями числился, повторяю, единственный пиджак и единственные брюки. Три-четыре рубашки, минимум белья. Складывалось ощущение, что для отца магазинов одежды – вовсе не существует. Он их или «не видит», или «не понимает» их предназначения.
Носил неизменную кепку на голове. Которую, в отличие от всех прочих мужчин, носящих кепку, заламывал верх не вперед, а – назад. «Как у Ленина».
Иногда, в совсем уже лютые морозы – носил самую примитивную, чуть ли не солдатского кроя шапку-ушанку со всегда «спущенными ушами». Но снаружи – неизменный плащ из ткани «болонья». Другого головного убора (шляпы, береты) отец не признавал.
Много лет подряд, демобилизовавшись из армии, фактически – все годы учебы в Ленинграде и весь «ленинградский период» - отец носил военную форму, доставшуюся ему после срочной службы в армии: гимнастерку без погон и солдатское галифе. Только – ботинки вместо сапог. Шинель (без погон). Первый «гражданский» костюм – появился у отца уже в Челябинске. Вероятно, по настоянию и дирекции музыкального училища, и настойчивых требований матери: все же – уже педагог! Надо выглядеть…
В этом костюме отец и ходит на работу не менее 20-30 лет, пока тот совсем уже чуть ли не истлел…
Несмотря не внешнюю кажущуюся неопрятность, отец был очень «чистоплотен» в плане гигиены, бритья. К старости – он стал «сдавать» в этом вопросе.
Хорошо помню, как каждое утро папа делал физзарядку. У него были две 8-килограмовые гантели, которые он и тягал. Впоследствии – появился еще и эспандер. Физически отец был очень и очень крепок, вынослив, и «при случае» - запросто мог пустить «в дело» кулаки…
Я был пару раз свидетелем отцовских «кулачных поединков» (ситуация требовала «кардинальных решений»). Что у меня, конечно же, вызывало просто восторг. Гордился, что и тут отец «не промах».
К гимнастике с гантелями – приучал и меня, лентяя… Правда, особого успеха по приобщению к спорту уже меня так и не наблюдалось… Летом и осенью – неизменное утреннее купание в речке (когда у нас, наконец-то появилась квартира в Виннице, прямо над речкой Южный Буг). Причем, температура воды не имела никакого значения: как для него самого, так и для меня. Правда, до зимнего «моржевания» дело не доходило.
Уже писалось о его предельной нетребовательности в еде. Семейная его жизнь, работа в училищах и Институтах сложилась так, что фактически еда в обычных столовых для него, а затем уже и для нас – стала нормой. Т.е. «общепит» - со всеми вытекающими…
Когда в нашей семье вместо матери появилась бабушка – то и в этом случае наше домашнее «меню» никаким разнообразием никогда не отличалось. Помню, что всегда был большой запас хлеба. Ели – уже черствеющий, а покупаемые новые буханки – складировались в кастрюли. Одновременно в доме могло быть до 5-6 буханок хлеба. Они лежали в кастрюлях и занимали большую площадь кухонного стола. Вероятно – сказывались годы лишений и постоянной нехватки еды. Это – уже на психологическом уровне…
Суп из рыбных консервов («Бычки в томате»), суп из «пельменей», в «бульон» которого накидали картошки – самый распространенный вид еды дома. Довольно редко покупалось какое-либо мясо и еще реже что-то из него делалось, особенно в жареном виде. Все экономилось: картошка варилась или «в мундирах» (называли «в лушпайках»), или срезалась предельно тоненькая шкурка. Отец свирипел, если видел, что кто-то режет с картошки толстую кожуру. Причем, мог сделать замечание… совершенно постороннему человеку. Вплоть до … работницы столовой.
Вероятно, выросши в условиях постоянной голодовки и нехватки всего и вся, моя бабушка уже толком и не умела готовить никакие пищевые «изыски». Еда была преимущественно вареная: если картошка – то никакого и никогда «пюре». Если и бывал кусок мяса – то он варился, а из него делались «макароны по-флотски».
В редких случаях, (это когда появилась уже плита с духовкой), бабушка могла испечь какие-то «коржики» (как она их называла).
Зато дома не переводились овощи, рыба в самых разных «вариантах». Рыбу – отец невероятно любил. Мог вечерними часами долго, скрупулезно и «основательно» чистить что-то «из горячего копчения», педантично выбирая мельчайшие косточки. От чего та рыба полностью теряла свой внешний вид и превращалась в … труху. Постепенно гора этой «трухи» на тарелке росла, а мы, дети, «ходили кругами» и поглядывали на нее с вожделением: пахло …. Ой! Только рыба та – всегда готовилась впрок – на утро следующего дня. Консервы – в первую очередь «Бычки в томате» - чуть ли не ежедневная еда. Таранька. Не обязательно вобла. Без пива, но – с томатным соком. Пиво – пришло позже, годам к 50-ти.
Из напитков – кипяченая вода. Странно, но, ни чай, ни кофе отец не любил. Несколько ложек давленой черной смородины или клюквы, мёда, запаренных кипятком – предпочитались всем другим видам «пойла». Но очень любил кисель домашнего приготовления. Из «магазинных» брикетов. В советское время – это было. Мы тоже любили. Почему-то вспоминается, что отец и меня «учил выдержке воли» в вопросах «Хочу пить». По субботам – мы ходили в парикмахерскую, затем – в баню. И после бани, когда все пьют воду или пиво прямо в бане, в ларьке, отец призывал меня потерпеть. Ничего не пить (и сам никогда ничего не пил) до прихода домой. Где нас ждала огромная кастрюля заранее приготовленного киселя. Вообще, я замечал: отец никогда не пил воду из автоматов для воды и очень болезненно относился к тому, что нам, детям очень хотелось это делать. В таких случаях он предельно тщательно, чуть ли не с применением носового платка, отмывал и оттирал «общественный» стакан, а потом, «скрепя сердце» - смотрел, как мы пили. Впоследствии я понял: сказался… еще концлагерный запрет пить воду из труб и кранов на территории лагеря. (Там шла техническая вода, и «поймать» дизентерию – было плёвым делом)…
Дома «не переводился» кефир и всякое молочное. Из колбас – предпочтение отдавалось полукопченым, твердым ее видам. Отец изобрел своей «рецепт приготовления колбасы»: - с пару месяцев он выдерживал палку копченой колбасы на… батарее отопления. И только затем мы ее ели…
Не знаю, отчего не покупалась вареная колбаса (очень редко – «Любительская», где тайком приходилось выковыривать вилкой вкрапления ненавистного мне сала…).
В области колбасы – я «отводил» душу – в Ленинграде. Туда неизменно мы ездили каждую зиму. В Январе: в семье на ул. Пушкинской – наоборот: покупалась исключительно «Докторская» колбаса…
Конфет и сладостей – отец «не переваривал» (как сам говорил). Шоколадные конфеты – отсутствовали вовсе. Единственное, что ему нравились – кисловатые шоколадные конфеты «Цитрамон». Но с удовольствием поглощал леденцы из металлических коробок и простенькие мармеладки – «дольки лимона».
Отец всегда покупал множество консервов. Мясные – редко. И ели мы их, и суп из них варили, и еще много банок отец «припрятывал на черный день», заталкивая банки под стеллажи с нотами, книгами и пластинками. Про наличие этих банок – со временем забывалось… И они выкатывались совершенно неожиданно, когда случался очередной переезд и мебель сдвигалась для погрузки в контейнера.
Забавно, но и количество самой кухонной утвари было сведено до минимума. Долгое время в семье вообще не было холодильника. Купить его – по тем временам, и дорого, да и «дефицит»… Продукты хранились в сетке – «авоське», прямо за окном, в форточке. Масло – хранилось в стеклянной банке и просто заливалось водой. Посуда – только алюминиевая: первая эмалированная кастрюля – появилась в «кухонном арсенале» только с появлением второй жены отца, когда ему уже было под 50… Ложки, вилки – самые обыкновенные, «копеечные». Алюминиевые. «Столовские». Никогда не помню никакого серебра-мельхиора или еще чего-то. Помнится – я в детстве нашел (в ручье почему-то) какую-то десертную, вроде как даже серебряную вилочку. Она была – как «бельмо в глазу» среди прочей непритязательной кухонной утвари.
Приготовление чего-либо на сковороде – целое событие… Почему-то во всех случая предпочтение отдавалось только всему «варёному». Да и бабушка, неизвестно с чего вообразив, что все «жаренное – вредно!» сама потчевала всех практически «больнично-диетическими» блюдами. Зато до сих пор помню, что «капустняк» - это щи из кислой капусты. «Томаты» - это овощное рагу. А Клёцки» - это «ленивые вареники». Названия польские, ставшие у нас обиходными.
Во времена «хрущевской голодовки» мне запомнилось блюдо, которое вызывало у нас всех неизменный восторг: специфическое варево из свиных «ножек» и говяжьих «копыт».
В принципе, до состояния «холодца» сие блюдо не долеживало: мы съедали все это, пока оно было горячим или слегка тёплым.
Первый «человеческий» суп – вернее, настоящий домашний борщ – мы ели, когда к нам переехала из Днепропетровска вторая жена отца – Юля. Бабушка – ревниво, поджав губы, стояла в сторонке, наблюдая, как у нас «за ушами трещит». Женщины!..
К табаку и курению отец всегда был равнодушен. Хотя как-то рассказал, что – курил. Когда служил в армии. Еще до «ленинградского периода». Курил ровно два месяца. И – бросил. Навсегда. Причин – не пояснял. Выдаваемый солдатам табак (махорку насыпали просто в карман шинели) – в увольнительные дни отец выменивал на … сливочное масло прямо на вокзале и каким-то образом ухитрялся пересылать то масло с попутчиками (!) матери в Киев.
С алкоголем у отца отношения «не сложились». Вероятно, какой-то специфический склад психики… Отец все мое детство и большую часть юности вообще не употреблял спиртного. Врезался в память «челябинский» эпизод, когда в Феврале 1958-го дома праздновали День его рождения. И гости уговорили отца выпить не более 50 гр. коньяка. Как сейчас помню – ему стало настолько плохо, что он долго сидел на краю ванны и, в конце концов, просто свалился в воду. Прямо в «парадном костюме». (Ванная всегда наполнялась водой «впрок»). «Прикладываться» отец стал, вероятно, под воздействием серьезных неурядиц «на личном фронте», о чем речь еще впереди.
Долгое время домашний быт отца (и мой) просто … отсутствовал. В привычном, «человеческом» или обывательском понимании. Нас это устраивало.
Меня с детства воспитывали в труде. Т.е. «за неимением женщины» - в обязанности каждого входило то, что обычно в семьях делают именно женщины. Конечно, мой младший брат Андрей довольно длительное время был «освобожден» от всяких бытовых работ: ему было только 3-6-8 лет. Но для меня, себя (кроме приехавшей к нам жить бабушки), было составлено… домашнее «расписание». Когда и по каким дням и кто именно осуществляет общую уборку, мытье пола. Затем, когда купили пылесос («Вихрь», как сейчас помню – совершенно «ураганная» машина) – то и «пылесосить».
Отец полагал, что после еды, если она не совместная, каждый обязан за собой вымыть посуду. Так было заведено тетей Ниной в Ленинграде. И это было умно, по мнению отца.
Но вот по вечерам или утром по выходным дням бывали и совместные трапезы. Мыть после них посуду положено было строго «по расписанию». Либо отцу, либо мне. Папа полагал, что бабушку (его маму!) из вечерних «посудомоечных работ» справедливо можно исключить, т.к. она и так готовила, мыла всё необходимое по ходу дела.
Помню, я переживал, что мне временами доставалось мыть дополнительно еще и кастрюли, а вот ему в его «дежурство» нет. Вероятно – обычный детский эгоизм. Помню, что отец мог «нарычать» на бабушку, когда та предлагала вымыть посуду вместо него в день отцовского «дежурства», мотивируя тем, что он устал. Целый день до вечера работал. Отец яростно отбивался: его черед. Все заранее расписано. И незачем нарушать установленный порядок.
Вначале – у нас было житиё в классе челябинского музыкального училища. Правда: семья молодого специалиста – еще успела получить двухкомнатную квартиру в Челябинске (ЧМЗ – челябинский машиностроительный завод). До училища отцу надо было ехать трамваем более полутора часов. В один конец. Прожили мы там недолго: вначале один, «на разведку» отец уехал в … город Винницу. Причин поиска работы именно на Украине было несколько: очень суровый климат, особенно для детей. Очень далеко находилось жилье от места работы. Как выяснилось гораздо позднее – отец был сильно напуган последствиями испытательного ядерного взрыва под Свердловском в 1957 г. (но об этом – тогда молчали…). Кроме того – в те годы формировался штат преподавателей фактически «с нуля» организуемого музыкального училища в г. Виннице. Предполагалось получение квартир его сотрудниками. Определенную роль сыграли и внутрисемейные факторы – вероятно, внутренний разрыв между отцом и матерью углублялся еще в Челябинске. Т.к. вскорости после переезда нашей семьи в Винницу родители … развелись.
Вероятно, сказалось и то, что в Киеве, фактически рядом, жила в одиночестве мать моего отца, Мария Марцеловна, которая впоследствии и перебралась к нам в Винницу. Так же, как уверял меня отец, огромную роль сыграло то, что по неподтвержденным слухам, в городе Виннице был … орган. Самый настоящий. А ему, как органисту (в прошлом) – весьма был интересен сам доступ к сему инструменту.
(Впоследствии, уже после переезда в Винницу, оказалось, что никакого настоящего органа в то время в Виннице не было. А было – три старые и разломанные фисгармонии. Которые вначале перетащили в помещения нового здания музыкального училища. Привести их в рабочее состояние так никому и не удалось. Зато древесину, не доеденную древесными жуками, распилили на … дирижерские палочки.
Уехав в Винницу (мы втроем: мать, брат и я – остались пока в Челябинске) – отец получил временное жилье: комнатку в сарае-бараке за тогдашним зданием училища. (Ныне – это стоматологическая поликлиника на ул. архитектора Артынова).
В начале зимы 1960 г. я переехал к нему в Винницу. Ехал в поезде один. Даже помню это. Помню, как отец носил и колол дрова, уголь, как топили печку. Все «удобства», включая кран для воды – во дворе. Мы фактически ютились в узкой, как пенал, комнатушке, заваленной стопками книг, нот, коробками с грампластинками, на которых ночами разворачивался матрасик, на котором я спал. Кстати – именно с того времени отец «изобрел»: в качестве кровати – использовать … раскладушку. И в дальнейшем, уже и после получения квартиры все мы, каждый из нас многие годы спали на … персональных раскладушках. Только для переехавшей к нам жить бабушки была куплена железная («панцирная») кровать. Кровать – берегли, на нее запрещено было садиться, ложиться кому бы то ни было в любое время суток…
Насколько помню, обычная, «человеческая» кровать появилась у отца только после второй его женитьбы. Я же спал на раскладушке – до «выхода из-под отеческого крыла», когда поступил в 1973-м в Киевскую Консерваторию и уже далее – в самостоятельную жизнь…
Питание, как завелось – только в «столовках». Бытовая сторона – как бы отсутствовала вовсе: по субботам – поездки в баню (на ул. Бевза или на Первомайскую площадь). Иногда – походы в прачечную. Весь день и у папы и у меня – училище и его классы.
После получения квартиры на Свердловском массиве (когда был построен новый корпус музыкального училища) – мы сразу оказались … в 3-х (!) комнатах. Роскошь – неописуемая. Нас не смущало, что жилмассив еще не готов к эксплуатации, к домам – подведена только холодная вода и электричество… Зимой мы вдвоем с отцом бегали по ночам к продовольственному магазину, расположенному рядом и воровали там ящики и прочую тару. Ящики – ломали посреди кухни и щепками топили «титан» для нагревания воды. Но – были счастливы. И каждое утро после неизменной зарядки (помню – жуткий холод в комнатах) – мы ехали в училище. И так – на целый день до вечера. Ежедневно.
Потом из Челябинска перебралась в эту квартиру и моя мать с братом. Стала появляться какая-то мебель. Но неизменными – оставались раскладушки.
Квартира постепенно «обрастала» неимоверным количеством лежащих повсюду «стопок» и «штабелей» книг, нот, грампластинок… Отцу пришлось ехать на мебельный комбинат и после многих мытарств – заказать и привезти большое количество специальных стеллажей под всю свою разрастающуюся библиотеку. В то время изготовление мебели «по индивидуальному заказу» и не приветствовалось, и было в принципе, невозможным… Отец сам изготовил чертежи. Тем не менее – в квартире стало … тесно: во всех 3-х комнатах, как в обычной «добротной» библиотеке стояли стеллажи, перемежаемые раскладушками.
У отца появилась собственная «рабочая комната» - кабинет. Большой, даже огромный его рабочий стол, всегда заваленный кучей разных книг, нот, его рукописями.
Над столом, в «специально отведенном углу» - живет … паук. Федя.
Дело в том, что отец всегда лично, раз в неделю убирал в квартире очень мощным (на то время – роскошь!) пылесосом. Убирал предельно тщательно. «По-немецки». Вся пыль, в том числе и по углам – все им аккуратно собиралась. Но… в одном углу всегда неприкосновенной оставался … клок паутины. С ее «хозяином», пауком.
Почему-то паука Федю (имя пауку – дал отец) папа никогда не трогал. Наоборот: еще и подкармливал. Скармливая ему мух, которые очень ловко ловил прямо на лету. Левой рукой (как обычно) – моментальное, невидимое движение – мухе скручивалась голова (чтоб была полуживая – так пауку интересней, пояснял) – и муха забрасывалась им в паутину. К Феде. Менялись города и квартиры. Вначале Федя – появился в квартире на Свердловском массиве в Виннице. Затем – (вероятно – уже другой «Федя») – жил у него над столом в Днепропетровске. Затем, после возврата в Винницу – снова Федя живет. И снова – в углу над рабочим столом. Никогда он мне не пояснял свою привязанность именно к пауку, и почему именно «Федя» его имя.
Знаю, и отец о том говорил, что он люто ненавидит … мух. Которые, рано начиная свои «полёты» - постоянно … будили отца, спавшего необычайно чутко и тревожно. (Вероятно, сказывалась расшатанная в концлагере нервная система). А мух он ненавидел до такой степени, что… летней порой переломал кучу … мухобоек. Которые сам же и мастерил из куска плоской резины и палки с гвоздями. Мне настолько ярко это запомнилось, что трудно и удержать себя от «описания сего процесса»…
Помню, что именно на Свердловском массиве между моими родителями начались уже… «открытые» скандалы и «выяснения отношений». Помню собственное состояние: крайний испуг. Мне до слез было жалко. Обоих. Я не знал, что нужно делать или сделать, чтобы домашние скандалы прекратились. Просто – ревел во весь голос. За что и мне «перепадало под горячую руку»…
В конце концов, все пришло к разводу и разъезду моих родителей. Развод - по суду. Т.к. в семье было двое малолетних детей… Естественно, я не помню и не знаю всех «оттенков» этой семейной драмы, и даже – трагедии… Помню, что как-то матери удалось «отсудить» одну комнату и мебель. Но от нас, детей, мать письменно отказалась на суде. (Не знаю до сих пор, что это за такая формулировка: отказаться от детей). Но факт остается фактом: родители «поделили детей». И мать с моим младшим братом довольно скоро уехала в однокомнатную коммунальную квартиру на ул. Красных Партизан, которая появилась в обмен на бабушкину киевскую однокомнатную квартиру.
Но как то раз – вроде, дошедший от матери вполне самостоятельно (?!) – появился в нашей квартире на Свердловском массиве и младший мой двухлетний брат Андрей. Так нас стало трое мужчин: отец, мы с братом, а «женскую половину» семьи долгое время представляла бабушка, Мария Марцеловна.
Я – пошел в первый класс школы. Это был 1960-й год…
В дальнейшем – наш быт практически не изменился: у отца в музыкальном училище, как и в Челябинске – была очень большая педагогическая нагрузка: он уходил на работу рано утром и до позднего вечера находился в учебном корпусе. Я же, после уроков в школе (№1, на ул. Малиновского) – ежедневно садился на трамвай, ехал к музыкальному училищу (уже в новом корпусе на ул. Чкалова). Там мы с отцом в его перерыв ходили обедать. В неизменную «столовку» на ул. Ленина (возле милиции). Столовку эту тогда все называли … «тошниловкой». Иногда – бегали поесть в рабочую столовую обувной фабрики на Козицкого. Помню, что мне всегда страшно хотелось именно жареных котлет, а отец неизменно покупал … паровые. Капризничать, что-то просить-требовать - у детей было не принято. Это называлось у отца – «кочевряжиться»…
Отец был «на парах». Я же – фактически «рос» в училищной библиотеке. Где функции женского надзора за мной, малышом еще, взяла на себя библиотекарь Катерина Васильевна. Строгая и добрая одновременно женщина. Внутри библиотеки, спрятавшись за стеллажи, я делал школьные уроки. Она их там и проверяла. Затем, до самого окончания работы отца – я «лазил» по всей территории училища, облазив все классы, все закоулки. Все в училище было моим РОДНЫМ домом.
В знакомых и товарищах – весь штат сотрудников училища: все педагоги, все технические работники. До сих пор помню трогательные отношения с целым рядом тогдашних студентов. Естественно: мне, малышу, все они казались очень «большими дядями и тётями». Среди них – были особые мои личные товарищи: Капустин Володя («дядька Володька»), он же был – и заведующий училищной фонотекой. И тихий, скромный и суровый «дядя Петя» Вознюк.
К родителям дяди Пете Вознюка как-то летом отец, взяв и меня, мы поехали в деревню. Осталось у меня в памяти масса трогательных воспоминаний о родителях Петра Тимофеевича (нет уж никого в живых, да и самого дяди Пети…). Помнится поздний летний вечер, дождь с громом и молниями. А мы втроем (отец, дядя Петя и я) – сидим и слушаем в грамзаписи (с клавиром!) – оперу Чайковского «Пиковая дама»…
Помню, что для дяди Пети мой отец бегал по знакомым аптекарям и «доставал» дефицитнейшие лекарства в то время - ампулы с алоэ, т.к. дядя Петя просто слеп от прогрессирующей близорукости.
Наш быт практически не изменился и после временного переезда в город Днепропетровск.
|