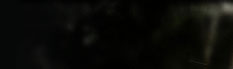Папина учеба. Творчество. Научная работа
Как я уже писал – отец впервые проявил интерес к музыке, уже в плане обучения – в Австрии. Вначале – было несколько «общих» уроков, взятых им у какой-то пожилой австрийки, еще до «Маутхаузена». Затем – «перерыв по естественным причинам».
После концлагеря отец, как неслуживший срочную службу в Советской армии – был призван на оную, и честно «оттарабанил», (как он сам говорил) 3 года в артиллерии. Военную службу он заканчивал на Севере Ленинградской области (пос. Репино – Зеленогорск). Там же, в армии, он впервые за многие годы… отъелся.
Не знаю, где отец раздобыл аккордеон, но он продолжал свои музыкальные «изыски» на нем и в армии. Правда, со временем, появился и доступ к пианино. Отец самостоятельно изготовил специальный ключ для настройки фортепиано (головка ключа – выкована им лично из танкового клапана, а ручка – приварена от … стального стержня от солдатской кровати). Этот настроечный ключ затем очень долгое время был в нашей семье среди прочих «железных» инструментов и я им иногда даже пользовался.
Вероятно тогда же, еще в армии, отец стал что-то сочинять и пытаться нотами записать сочиненное. Поскольку когда он демобилизовался, то ему уже было что показать. Это были какие-то пьесы, впоследствии уничтоженные ими самим.
Демобилизовавшись из армии, в марте месяце 1947 года отец появился в Ленинграде. У него хватило «духу и смелости» заявиться на консультацию прямо к … Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, который после войны попеременно жил то в Москве, то в Ленинграде (своем родном городе). Только у Шостаковича его бывшая квартира оказалась к жилью непригодной (дом серьезно пострадал от бомбежки). Шостакович в своих «наездах» в Ленинград всегда останавливался в номере гостиницы «Астория», где стояло даже пианино.
Итак – отец, «ничтоже сумняшеся» - ввалился в номер к Шостаковичу…
Тут следует заметить, что лично Дмитрий Дмитриевич – был человеком очень и очень скромным и отзывчивым одновременно. Он никогда не «заносился» своей «великостью». К нему любой человек при желании «имел доступ», и если нужно было – к нему практически запросто можно было подойти и что-то спросить.
Отец протянул Шостаковичу свои сочинения, написанные еще в армии. Шостакович «просмотрел глазами» ноты, ничего не играя, и спросил отца: «Вы так сильно любите Шопена?».
Отец мне затем подробно описывал свою … ошарашенность. Находясь в «ступоре» от удивления, он даже не сразу смог нормально ответить на поставленный ему вопрос. Тогда он никак не мог «взять в толк», как можно вообще ничего не играя – но только «глазами смотря в ноты» - и сразу определить стиль, манеру… То, что для него, музыканта-любителя, очевидно и понятно только в звуках! Это уже потом, когда отец сам стал профессионалом, все стало понятно. Тем не менее – тогда отец ответил: «Да. Люблю Шопена».
Отсюда выходит, что, по-видимому, отец уже слышал музыку Шопена до войны. Или, может, даже в концлагере (у немцев была трансляция «на лагерь», и иногда, кроме песенок бывала и просто какая-то музыкальная трансляция) транслировали музыку Шопена, и она ему действительно нравилась, раз он сам написал несколько каких-то пьес «в стиле».
Затем Шостакович взял на клавиатуре пианино аккорд из трех звуков.
«Ля мажор?», спросил отец, просто не зная, что отвечать.
«У вас что: абсолютный слух?», - спросил Шостакович.
«Не знаю…», ответил отец. На том «экзамены – смотрины – знакомство» собственно, и … закончились.
Дмитрий Дмитриевич сел за стол и написал записку Директору музыкального училища (при Консерватории) Павлу Алексеевичу Серебрякову со своей рекомендацией.
Знакомство с будущим Директором (он же – Ректор и Училища, и Консерватории) состоялось при весьма забавных обстоятельствах. О чем мой отец любил рассказывать «в лицах», притом несколько раз, так что я запомнил подробности.
А дело было так: зайдя с мороза (напоминаю – было начало Марта 1948 года) в здание музыкального училища, «на всякий случай», перед визитом к «высокому официальному лицу» решено было вначале посетить… туалет. Зашел по малой нужде.
За перегородкой в соседней кабинке кто-то громко... пустил газы. Отец, желая «блеснуть знаниям музыкальной терминологии» «аж в самом» музыкальном заведении, громко сказал: «Фортиссимо!» (т.е. очень громко). Затем – оба посетителя случайно вышли в проход вместе. И тот, кто «пустил газы» сказал: «Э! Не просто фортиссимо, а – стретто!».
Отец тогда еще не знал, что такое «стретто»… Но на всякий случай – посмеялись оба. А через пару минут и солдат (отец) и «этот дядька» - встретились в … кабинете Директора. И этим «дядькой» - и оказался Серебряков П.А. Большого конфуза не было: дело житейское …
Несмотря на то, что учебный год уже заканчивался, отца «поступили» на окончание первого курса Теоретического отдела музыкального училища при Консерватории им. Римского-Корсакова…
Папа многократно рассказывал мне о степени того УЖАСА, который он переживал практически на каждом уроке в самом начале обучения. А рассказывать он умел: в красках, в «лицах»… Вокруг него – одни девочки, пара худосочных мальчиков, полуподростков. И – среди них – высокий дядька, в военном галифе, сапогах, гимнастерке. ВЗРОСЛЫЙ (!). С судьбой, с «военной» биографией! И вдруг: – «Я ничего не понимаю!».
Дело в том, что к концу подходил курс Элементарной теории музыки, когда достаточно внушительный учебник студентами первого курса был почти освоен. Велись практические занятия, а тут… Отец – не знает ни одного термина, ни одного правила,… Ничего!
Вот тогда он сам себе разработал график учебы. Строжайший график. В котором все было расписано вплоть до минуты (без преувеличения). На сон – отводилось вначале только 4 часа. Через полгода – уже 5. Потом – перешел к 6-ти часовому сну (и так – до конца жизни…). В его «ежедневнике» было наперед расписаны не просто занятия и время в учебном корпусе, но и количество материала, который он сам определил и сам себе распределил, как практические задания.
Поминутно был расписан: транспорт, на котором приходилось ездить. «Подлетное» время к тому транспорту. С тех пор у отца выработалась «!пожизненная» привычка в транспорте читать. Причем – всегда стоя. Эту же «привычку» отец воспитал и у меня: так, в трамваях и автобусах было прочитано огромное количество книг, учебников. Даже мысленные занятия по сольфеджио и гармонии – все в транспорте.
С этим его расписанием «для себя» вышел однажды конфуз: когда его вызвали зачем-то в учебную часть вне возможностей его времени. Он, прождавши совсем немного - ушел, не дождавшись Директора, т.к. тот попросту опоздал. Когда его вторично вызвали, то инцидент исчерпался на месте, когда отец показал свое «Расписание» и пояснил, что его «жизнь отныне расписана по минутам». Я хорошо помню рассказ отца об этом. Тем более, что он пытался и меня заставить сделать для себя нечто подобное.
Отец рассказал – что к Маю месяцу 47-го, к первым экзаменам, он догнал собственный первый курс. По всем предметам. Более того: даже оценки были наивысшие! (Что позволило ему впоследствии получить так называемый «Красный диплом» по окончании Училища).
Как ни странно, но более каких-либо ярких эпизодов из периода учебы моего папы, я не помню,… Может, и я плохо спрашивал, может – и отец не рассказывал.
В «честь рождения сына» он купил себе… первые его часы. Это была «Победа». Стальной корпус. На циферблате – довольно большой золотой профиль известного памятника Петру Великому.
Я страшно любил эти часы. Мне хотелось точно такие же. Но часы были юбилейные – «250 лет со дня основания Ленинграда» (Санкт-Петербурга). Так на циферблате и было написано.
Как-то раз мне отец сказал: «Ты их получишь. Потом». Что означает «потом» - я не понял. Теперь понял…
Правда, эти часы сам отец где-то и «посеял». Уже незадолго до своей смерти. Так я остался без них…
Знаю, что творчеством, т.е. уже сочинением музыки, отец занимался скорее факультативно, а не целенаправленно, как обучающийся композитор. Тем не менее, композиторы и теоретики на все занятия всегда ходили вместе. Среди его товарищей того времени, впоследствии ставших известными, это композиторы Андрей Петров и Сергей Слонимский, с которыми впоследствии отец очень редко, но переписывался.
Я никогда особо не видел и отцовских рукописей. Того, что называется «нотный черновик». Вероятно, отец сочинял музыку редко, урывками. Никому и никогда ничего и не показывал и не «выставлял» на публику.
Мне думается, что для того, чтобы заниматься личным творчеством, нужно меньше … знать. Вероятно, просто колоссальные, энциклопедические знания музыкального материала чуть ли не от раннего «музыкального Средневековья» вплоть до авангарда ХХ столетия – в чем-то даже … мешали ему самому что-либо сочинить.
Несколько позднее – я сам у себя обнаружил нечто подобное: обширные, фундаментальные теоретические знания даже… затрудняли сам процесс написания собственной музыки. Сознание мгновенно находило какой-то… стилевой аналог из предшествующих композиторов.
Отец, к примеру, страстно любил музыку Глазунова, Аренского, Метнера, Мясковского, впоследствии - Прокофьева и Шостаковича, Свиридова. Затем, уже в собственных сочинениях он сам же и обнаруживал …. влияние уже вышеназванных композиторов. Папа сам мне об этом говорил примерно так: «Кому нужен еще один Глазунов?».
Нечто похожее было и с моим собственным музыкальным творчеством: если мои первые сочинения очень были похожи на «плохого Моцарта», то впоследствии я и сам замечал, что «в мои ноты сильно дует» от Шостаковича или Свиридова, или Равеля, или Дебюсси, чью музыку я любил невероятно: это были «мои музыкальные Боги». Т.е. чисто теоретическое «анализирование» - стало нормой и для отца и для меня впоследствии. Вероятно, именно это и тормозило уже собственный творческий процесс: нежелание и какое-то внутреннее «неудобство» быть похожим на кого-то конкретно.
Естественно, теперь «на собственной шкуре», став со временем музыкантом энциклопедических знаний, отец понял: как можно только по одному виду фактуры нотной записи хоть приблизительно определить то или иное яркое стилевое направление. (Тот самый случай с Шостаковичем и нотами отца, «похожими на Шопена»).
Творчество отца – это то самое «Учебное пособие по гармонии», которым он стал заниматься еще с Челябинска.
Вначале мой отец столкнулся с необходимостью создать цикл практических упражнений для учащихся разных отделений музыкального училища по предмету «Гармония». Он преподавал у студентов разных отделений, где список требований по одному и тому же предмету «Гармония» разный.
Я помню, что отец завел довольно толстую «Амбарную книгу». Так было на обложке. Это была действительно фабричного изготовления немного «урезанная» самим отцом книга-журнал. С толстой, «мелованной» бумагой, выносливым переплетом. Но на титульной странице действительно была надпись: Амбарная книга».
В книге было много разделов, в каждый из которых отец постоянно дописывал и дописывал все новые и новые «цифровки»: так называли записанные цифрами ряды гармонических аккордовых последовательностей.
После урока гармонии, отец давал студентам эту свою «Амбарную книгу»№ и они выписывали себе оттуда практические задания. Вероятно потому отец, из чисто практических соображений, отыскал наиболее прочную во всех смыслах «конструкцию», т.к. эта «Амбарная книга» была постоянно в ходу, на руках у людей и проч. Я очень хорошо помню этот сборник, т.к. впоследствии я сам неоднократно ей пользовался в качестве учебного материала и заданий уже для себя.
Материал в книге постоянно дополнялся. Переделывался. Постепенно каждый из разделов «разбух» до невозможности. Появлялись дополнительные листы – вкладыши… Пользоваться «Амбарной книгой» становилось все неудобнее. Но – работа шла: отец постоянно осмыслял все новые и новые произведения, сочинял эти «цифровки» сам. Так шли годы. Забегая наперед, можно сказать, что работа тянулась… до самого последнего его часа: на рояле и 15 Февраля 1999-го – была… все та же, уже ОГРОМНАЯ стопка листов бумаги с… бесконечно переделываемой и доделываемой им работой по «Практическому курсу гармонии».
Чуть позднее я узнал, что, будучи постоянным подписчиком специализированного музыкального журнала «Советская музыка» отец давал в сей журнал на публикацию свои статьи. Был удивлен и страшно горд, что однажды ему выплатили даже какой-то приличный гонорар (!).
Тем не менее, главной своей работой он считал создание «Практического курса гармонии», как вспомогательное пособие к основному «Учебнику гармонии». Тут следует уточнить: выпускник Ленинградской теоретической «школы», мой отец был «противником московской школы». «Трения» между «школами» носили иногда – условный характер, иногда – полемический. И начало было этому положено еще… в XIX веке. Когда эти обе консерватории открывались еще Русским Музыкальным обществом (РМО). Часто – дело шло о разных принципах «цифровой записи - обозначениях» тех самых «цифровок», принципов записи альтерации, функций и т.п.
Думаю, здесь не следует особенно погружаться в мир специальных знаний, терминологий: это не есть исследование, посвященное специально и только самой данной работе моего отца – «Практический курс гармонии». Хочу подчеркнуть – работа над сим трудом не прекращалась никогда. Смело можно назвать ее работой всей его жизни.
Он был увлечен всегда. Везде и повсюду. Выкраивался отцом любой момент, в любом месте, чтобы достать из портфеля несколько листков и вновь что-то в них дописывать, переписывать, переделывать.
К концу 60-х годов, когда отец уже практически полностью перешел на работу в Винницкий Педагогический институт, он абсолютно заново, с самого начала переделал все принципы записи в своих «цифровках». Причем – делались такие переделки с… самого начала, и минимум - трижды (!).
С этой его работой, поступив в Киевскую Консерваторию в 1973 году – я более никогда не сталкивался и не пересекался.
Я все реже и реже бывал у него дома. У меня появилась собственная семья. Прошла служба в армии на Дальнем Востоке, имелись и прочие домашние и рабочие проблемы. Как у всех – самостоятельная взрослая жизнь. Вместе в одной квартире мы уже не жили.
Да и виделись мы все реже и реже. Но во все свои визиты к нему я видел: на рояле и его рабочем столе постоянно лежит угрожающих размеров стопка листов – это была его работа.
С ней отец ездил на «смотрины» - консультации в Консерватории Одессы, Киева, Ленинграда. Сколько помню – результатом этих поездок было… его раздражение. Его критиковали. Ему что-то указывали. Подробностей я уже и не помню. Но отец неизменно был только расстроен этими «визитами», тем более, что издать хотя бы часть им написанного все никак не удавалось.
Помню, что кто-то из его выпускников, эмигрировавших в Канаду, предлагал ему свою помощь в издании книги в Канаде. Отец долго думал, «сопротивлялся». Он не хотел, чтобы его труд «где-то там, на чужой стороне», оказался полезен, «а дома – нет»… Своеобразный «патриотизм»? Вероятно. Также ему отсоветовали делать это по причине… воровства интеллектуальной собственности.
По этому «Практическому учебнику» много лет подряд отец учил гармонии студентов Педагогического института. Справедливости ради, надо сказать, что после его окончательного уход на пенсию – везде гармонию стали преподавать «по старинке» и «традиционно».
Отец пытался и меня привлечь к сотрудничеству и – возможному продолжению и завершению его труда. Он понимал – прошло более 40 лет, «а воз и ныне там» (как он выражался) и «конца этому не видно, а я могу не успеть…». Иногда я вникал (поверхностно) в суть вопроса. Давал порой дельные (как сам отец признавал) советы. Мне показалось, что эта работа стала бы нужной исключительно на уровне специального курса гармонии у теоретиков и композиторов консерватории, как исключительно дополнительный курс. Отец обещал «поразмыслить» над этим.
Но годы шли – отец работал в Пединституте и преподавал там и по-существу, ничего не менялось...
Я как мог, «честно отползал» от сотрудничества и системного вникания (а иначе – нельзя: это фундаментальнейший труд!) в его работу. Поясняя это тем, что у меня масса своих семейных и производственных проблем (я уже работал вначале преподавателем в Винницком музыкальном училище, затем – дирижером и аранжировщиком разных оркестров). Отец понял, что он остался один на один со своей работой. Ему было горько. Я – понимаю его. Но…
Вероятно, это послужило причиной некоторого охлаждения наших отношений. Помню, мы иногда – даже … ругались. Тем более – оба мы весьма и весьма эмоциональны, порой в «полемике» нас «заносило». Обоих…
Накладывалось и то, что в целом ряде понятий, которые ранее для меня были «незыблемыми» и они были «вколочены» в меня моим отцом – у меня со временем появилось… собственное мнение. Собственные, отличные от отца убеждения. Т.е. ситуация типа «нашла коса на камень».
Его работа, по большому счету, так и осталась незавершенной. Практически все, до последнего листка, после «дележа имущества» (которого фактически и не было) после его смерти – увезла с собою в Севастополь его последняя жена – Терлецкая Ольга Михайловна.
Что же касается собственно композиторского творчества отца– то я, повторюсь, не видел, за исключением одного раза, собственно самих рукописей.
Смутно помню, что он работал над какой-то Симфонией-Концертом для трубы с оркестром. Вероятно – это еще в период жития нашего на Свердловском массиве. Скорее всего – вдохновленный дружбой и совместной игрой с замечательным трубачом Гуцалом Виталием Архиповичем. Вспоминается, что сам отец говорил, что «что-то от Глазунова сильно…». Но… концерт и весь «проект» вероятно, так и остался недописанным.
Ничего и никогда из нот Николая Николаевича не издавалось. Возможно, среди «уехавших» вместе с Терлецкой О.М. бумаг и есть какие-то музыкальные сочинения и рукописи моего отца – я же ничего о них не слышал и не знаю.
Отец всегда проявлял самый живой интерес к… управлению оркестром. Хотя специальных дирижерских навыков и узкоспециального образования у него в этом направлении нет (впрочем, как и у меня). Тем не менее, когда он попал на работу в Винницкое музыкальное училище в конце 1959 года – он немедленно, из числа тогда еще очень немногочисленных студентов-учащихся стал «лепить»… симфонический оркестр.
Естественно: для меня репетиции оркестра – это было… нечто!
Оркестр был очень маленький. Он «не дотягивал» по составу даже до самого минимального симфонического. Многое отцу приходилось переинструментовывать, т.к. попросту не было ни нужного числа струнников, отсутствовали «в нужном количестве» музыканты-духовики. Забавно, но факт: партию контрабаса в училищном оркестрике отца играл… тубист. Витя Лысенко. Который умудрялся брать ноты чисто. В то время, как «штатный» контрабасист Игорь Мазуркевич – научился извлекать более-менее чисто только несколько нот в первой позиции…
Помню, что игралась Симфония Си-минор Ф.Шуберта, что-то из «Пер Гюнта» Э.Грига, оркестровые номера из «Кармен» Ж. Бизе. Правда, «дирижерский период» у отца длился недолго: огромная основная нагрузка. А со временем «пришел» и настоящий, «штатный» дирижер.
|